Untitled Event (1952 г.)
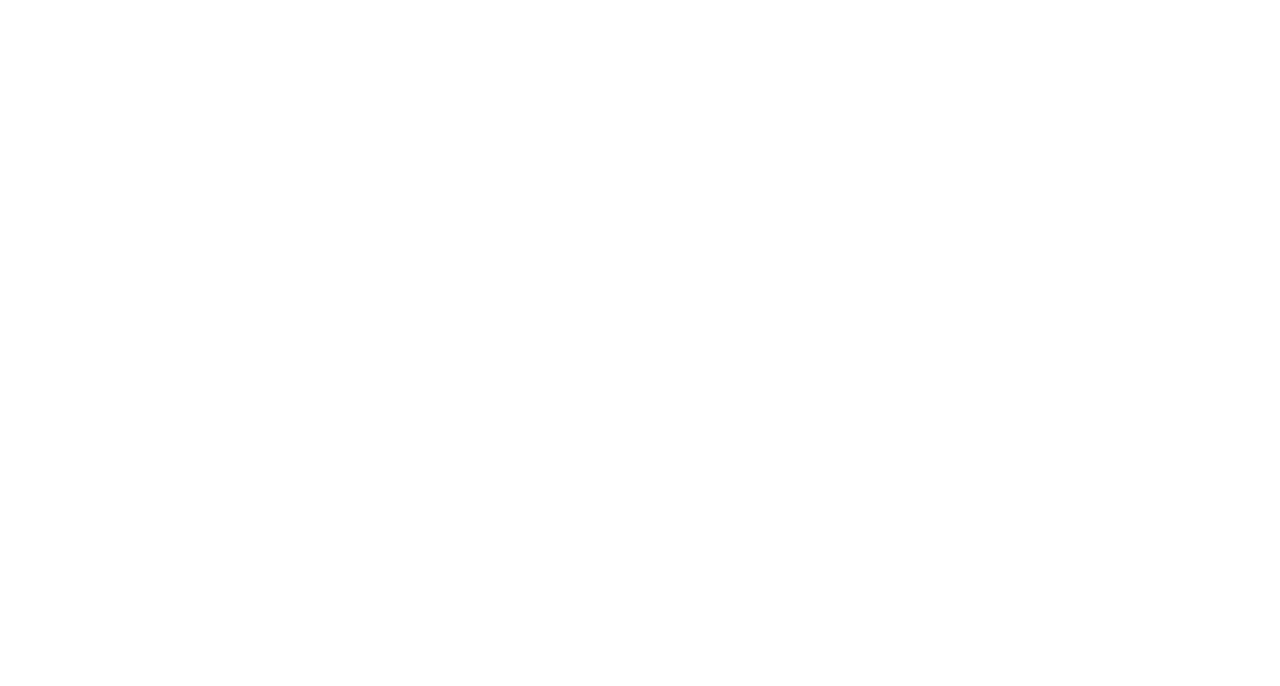
Несмотря на то, что во время сбора программы мы хотели избежать самых знакомых и близких имен, как Марина Абрамович и Алан Капроу, пройти мимо тусовки Black Mountain колледжа мы не смогли. Сейчас, когда театральное образование в России переживает стагнацию и упадок (из-за отсутствия связи между учебным процессом и актуальным арт-рынком, систематического насилия, кумовства и своей закрытости), полезно вспомнить пример того, как академическая культура рождала действительно прорывной для своего времени опыт.
У перформанса, реэнактмент которого мы делаем, нет названия. Он прошел в кафетерии колледжа и был инициирован Джоном Кейджем. Именно инициирован, потому что от Кейджа зависел лишь стартовый импульс — создание той временной партитуры, в которую смогут встроиться другие художники. Так сделали и мы: создали общую структуру вечера, наполнением которой пригласили заняться художниц и художников разных направлений. В книге Ричарда Костелянеца «Разговоры с Кейджем» сам Кейдж описывает оригинальную работу так:
У перформанса, реэнактмент которого мы делаем, нет названия. Он прошел в кафетерии колледжа и был инициирован Джоном Кейджем. Именно инициирован, потому что от Кейджа зависел лишь стартовый импульс — создание той временной партитуры, в которую смогут встроиться другие художники. Так сделали и мы: создали общую структуру вечера, наполнением которой пригласили заняться художниц и художников разных направлений. В книге Ричарда Костелянеца «Разговоры с Кейджем» сам Кейдж описывает оригинальную работу так:
«Думаю, хэппенинг как жанр возник благодаря удачному стечению обстоятельств тогда, в Блэк-Маунтин, где собралось немало ярких людей: там был Мерс [Каннингем — прим. наше], там был Дэвид Тюдор, там была публика… "Хэппенинг" случился, потому что вокруг было множество людей и множество возможностей, и мы сумели провернуть это быстро. Фактически я выдумал его утром, а вечером он был представлен; я сразу увидел всю картинку целиком. (Дебора Кампана, 1985)
Что вы стремились сделать?
Ну, М. К. [Ричардс] сделал перевод "Театра и его двойника" [Антонена] Арто, и у Арто мы позаимствовали мысль о том, что театр может существовать независимо от текста, что если есть текст, нет необходимости иллюстрировать его действиями, что звуки и прочие проявления должны быть свободны друг от друга, а не связаны воедино; так что вместо того, чтобы танец выражал музыку или музыка выражала танец, пусть лучше они существуют независимо друг от друга и ни одно не подчиняет себе другое. И этот принцип распространялся не только на музыку и танец, но также на поэзию, живопись и все остальное, и на аудиторию тоже. То есть аудитория не должна сосредоточиваться на чем-то одном.
Получается, за этим событием стоит планирование, замысел?
Разумеется. Все было сделано быстро, но продуманно. И партитура была.
Я сделал партитуру — вероятно, она не сохранилась, — она давала "временные скобки", как я говорю. Так что [Чарльзу] Олсону, вместо того чтобы читать стихи когда вздумается, предоставлялись эти самые временные скобки, внутри которых он мог это сделать. А лекция, которую я читал, включала длинные паузы — тишину. (Мэри Эмма Харрис, 1974)
Я сделал партитуру — вероятно, она не сохранилась, — она давала "временные скобки", как я говорю. Так что [Чарльзу] Олсону, вместо того чтобы читать стихи когда вздумается, предоставлялись эти самые временные скобки, внутри которых он мог это сделать. А лекция, которую я читал, включала длинные паузы — тишину. (Мэри Эмма Харрис, 1974)
Опишите, пожалуйста, весь перформанс.
В одном конце прямоугольного зала, в дальнем, мы показывали фильм, в противоположном — слайды. Я стоял на лестнице, читая лекцию, в ходе которой делал длинные паузы, а на другую лестницу по очереди поднимались М. К. Ричардс и Чарльз Олсон. Внутри периодов, которые я называл временные скобками, исполнители действовали свободно, без каких-либо предписаний, — давайте назовем эти периоды сценами; они не обязаны были заполнять сцены целиком. До начала сцены им не позволялось действовать, после начала они были вольны делать что им заблагорассудится сколь угодно долго — но внутри сцены. Скажем, Роберт Раушенберг включал старомодный граммофон с трубой и эмблемой собаки, Дэвид Тюдор играл на рояле, а Мерс Каннингем и другие танцовщики двигались среди и вокруг публики. Над головами зрителей висели полотна Раушенберга…».
Участницы и участники:
Наталия Медведева, Екатерина Галицких,
Александра Магелатова, Денис Дерябин,
Элина Лебедзе, Анна Соколкова, Федор Кокорев, Валерия Кузьминых, Олег Меньшиков, Юрий Сорокин
Наталия Медведева, Екатерина Галицких,
Александра Магелатова, Денис Дерябин,
Элина Лебедзе, Анна Соколкова, Федор Кокорев, Валерия Кузьминых, Олег Меньшиков, Юрий Сорокин